Когда в мае 2022 года на ряде сетевых ресурсов появилось эссе Александра Дугина «Философия Победы», многие читатели обратили внимание на его заключительные строки «Нам нужна именно философия Победы. Без этого всё будет напрасно, и все наши успехи будет легко обратить в поражение. Все истинные реформы следует начинать с области Духа. И как вестей с фронта следует искать в новостях – ну что там с Институтом Философии? Ещё держит оборону? Пока не сдался?». Нигде в самом тексте не говорилось конкретно про Институт философии РАН, который в прошлом году, как казалось, успешно отразил попытку назначения на пост и.о. директора неприемлемого для его сотрудников кандидата (что было подробно освещено нашим изданием). Но, разумеется, все наблюдатели сделали очевидный вывод — 60-летний философ, геополитик и общественный деятель рассматривает в качестве лидера российской философии именно себя. А для того, чтобы утвердиться в этой роли, ему нужна какая-то официальная институция, желательно в академическом институте или университетском вузе.
Александр Дугин, по-видимому, справедливо считается самым известным современным русским философом на Западе. Это слава, безусловно, имеет несколько зловещий оттенок: в Дугине боящиеся нашего Отечества интеллектуалы видят наилучшее выражение той системы идей, которая толкает Россию на борьбу с Западом, либерализмом, глобализмом и пр. Хотя слова о «тотальной войне» с «коллективным Западом» сегодня произносят очень многие, и Дугин тут не обладает никакой монополией, из ныне живущих отечественных мыслителей он, пожалуй, единственный, кто может гордиться тем, что в течение последних десяти лет всерьез работал над своим интеллектуальным реноме, выпуская тома своих сочинений, в которых доказывал в общем одну идею, что Россия должна снова стать империей и в качестве империи сразиться с западным Модерном, который логически перешел в Постмодерн.
Чтобы исполнить эту задачу, по мнению Дугина, Россия должна была выйти за пределы всех существующих западных идеологий, каждая из которых отмечена тлетворным влиянием Модерна, и руководствоваться некоей Четвертой политической теорией, которую Дугин описывает в своих книгах почти исключительно апофатически. О ней известно в общем только одно — что это не либерализм, не социализм и не фашизм. Но нечто, что ставит под сомнение идеологические основы всех этих трех чрезмерно модернистских концепций.
В качестве философской основы Четвертой теории Дугин предлагает фундаментальную онтологию немецкого мыслителя Мартина Хайдеггера, основным понятием которой, по утверждению российского философа, является чистое бытие (Seyn) в противоположность сущему (Seiende) и бытию самому по себе (Sein). Несмотря на сложный философский язык мысль у Дугина довольно простая: то бытие, которое на Западе потеряли уже досократики, а открыл Хайдеггер, оно обязательно связано с предчувствием близости неминуемой смерти, с предощущением всеобщей гибели. Это подлинное Бытие равно Ничто (Nichts), точнее оно ничто в себе содержит, а то, что ему противостоит, что его в конце концов вытеснило в европейской метафизике - это онтическое, духовно опустошенное парменидовское бытие, отрицающее в себе это самое ничто. Из этого псевдо-бытия и вырастает мир платоновских идей и вслед за ним аристотелевское сущее, очень полезное для науки, но глубоко враждебное жизни. Все это забвение настоящего, проникнутого риском гибели Бытия логически ведет к интеллектуализму и рационализму Модерна, а затем к тотальной иронии Постмодерна.
Четвертая политическая теория и есть такое радикальное политическое высказывание, воскрешающее вот это подлинное бытие, равное ничто, в жесткой оппозиции спокойному и обеспеченному миру обывателей, обуянных ложным страхом перед тотальным уничтожением. Адепт Четвертой политической теории, разумеется, должен это уничтожение если не любить, то не бояться, и в этом случае он победит, а вместе со своей Победой свернет власть Запада, с его философией стабильного существования.
Однако тайные адепты Запада, то есть, вероятно, те, кто упрямо не желает рисковать ни собой, ни всем человечеством, они крепко затаились в современных российских институтах образования, науки и культуры, и для очищения от этого зловредного элемента, который философ называет то «пятой», то «шестой» колонной, страна остро нуждается в государственной идеологии, как можно предположить, основанной на идеях самого Александра Дугина.
Собственно, эту стратегию очищения от «шестой колонны» Дугин и называет философией Победы. Он, разумеется, много пишет о том, о чем пишут сейчас все, включая автора этих строк — об особой русской цивилизации, о некоем своем пути, идя по которому, мы неизбежно разойдемся с Европой. Но, надо отметить, что рассуждая на эти темы, как бы встраиваясь в модный цивилизационный дискурс, Дугин немного отступает от прежних своих идей, которые выстраивались под другую геополитическую конфигурацию, в настоящее время уже не реальную. Напомню, что в 1990-е Дугин прославился своим призывом к стратегическому союзу с Германией, Францией и Японией для создания континентальной оси в противовес Англии и США. Потом стало ясно, что если даже такая ось и образуется, то уж точно не на идеях Дугина и его западно-европейских единомышленников типа покойного писателя Жана Парвулеско и философа Алена де Бенуа. Когда это обстоятельство стало очевидно для всех, включая самого Александра Гельевича, он пережил явный идейный кризис, который помимо прочего привел к оттоку из рядов его сторонников большого числа прежних адептов. Для одних он оставался слишком лоялен политическому режиму, для других — слишком нечувствителен к поднимавшемуся в начале нулевых этническому национализму. Дугин не делал ставку ни на революционные беспорядки, ни на этническое сплочение. Он делал ставку на войну, империю и острый азарт предчувствия смерти. В начале нулевых все это звучало странно, слишком брутально и совершенно не актуально.
Когда все это стало приметой времени, его ставки как идеолога резко возросли, тем более, что почти все его оппоненты и конкуренты в правом лагере ушли в лучший мир.
Сами сотрудники Института философии, понимающие, что с Дугиным им не сработаться и не ужиться, попытались противопоставить его философии Победы свои аргументы. Так, бывший заместитель директора Института, главный научный сотрудник Сергей Никольский в статье «Что несет с собой «философия Победы»?», опубликованной «Независимой газетой» 22 июня 2022 года, возражая идеям автора Четвертой политической теории, предложил «обозначить настоящую, действительно важную и несравненно более широкую, чем дугинская «философия Победы», гуманистическую тематику. Рассуждая о ней, нельзя выбрасывать из памяти не только нашу реальную непростую историю, но и многовековые взаимоотношения России с Европой – иногда добрые, нередко конфронтационные, всегда непростые». Наверное, имел бы смысл прямой философский диалог Дугина с сотрудниками Института на какой-то нейтральной дискуссионной площадке.
Нисколько не претендуя на разрешение того, чем этот диалог мог бы завершиться, мы все-таки позволим высказать некоторые предположения, чем должна была бы руководствоваться философия, отказывающая видеть Абсолют в «черном солнце» смерти. Вероятно, творцы такой философии, также как и «философ Победы», понимают, что человечество снова оказалось перед перспективной тотальной катастрофы. Философия Дугина по своему это гибрид идей Шатова и Кириллова из «Бесов» Достоевского — идея народа-богоносца, достигающего Божественного статуса если не через осуществление самоубийства, то через риск такового. В этой идее действительно есть что-то привлекательное для русского человека, особенно в момент дионисийского опьянения, отнюдь не обязательно сочетающегося с опьянением вполне обыкновенным, но типологически с ним сходным. Если уж говорить языком Ницше, то Дионису надо противопоставить, конечно, не Аполлона, но нелюбимого немецким философом Сократа — идею этически ответственной личности, сознающей свой долг в первую очередь перед своими потомками, которыми такого рода личность просто не имеет право рисковать. Риск безусловно благородное дело, если это не риск своими детьми и будущим своего Отечества. Мне кажется, вот этот новый сократизм в противовес дионисийской «бесовщине» ответственные философы могли бы взять на вооружение.
Борис Межуев, главный редактор PublicO
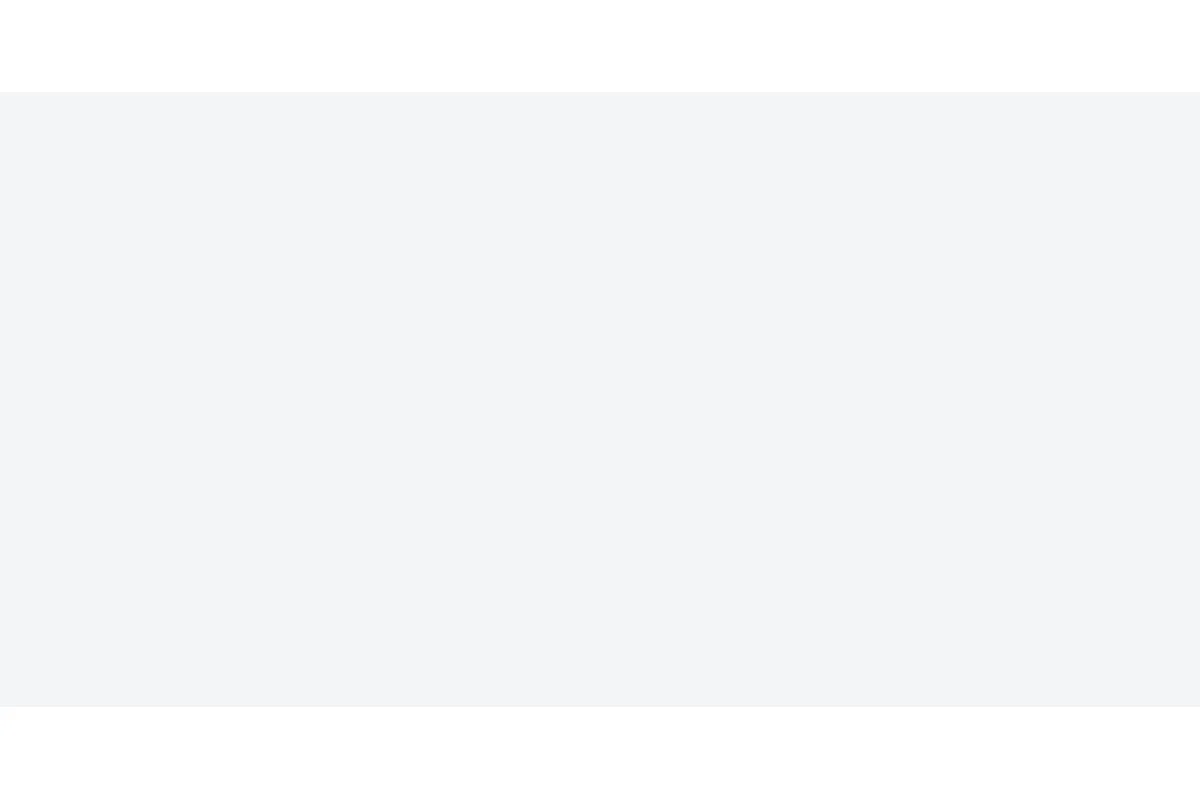
.jpg)
.jpg)
