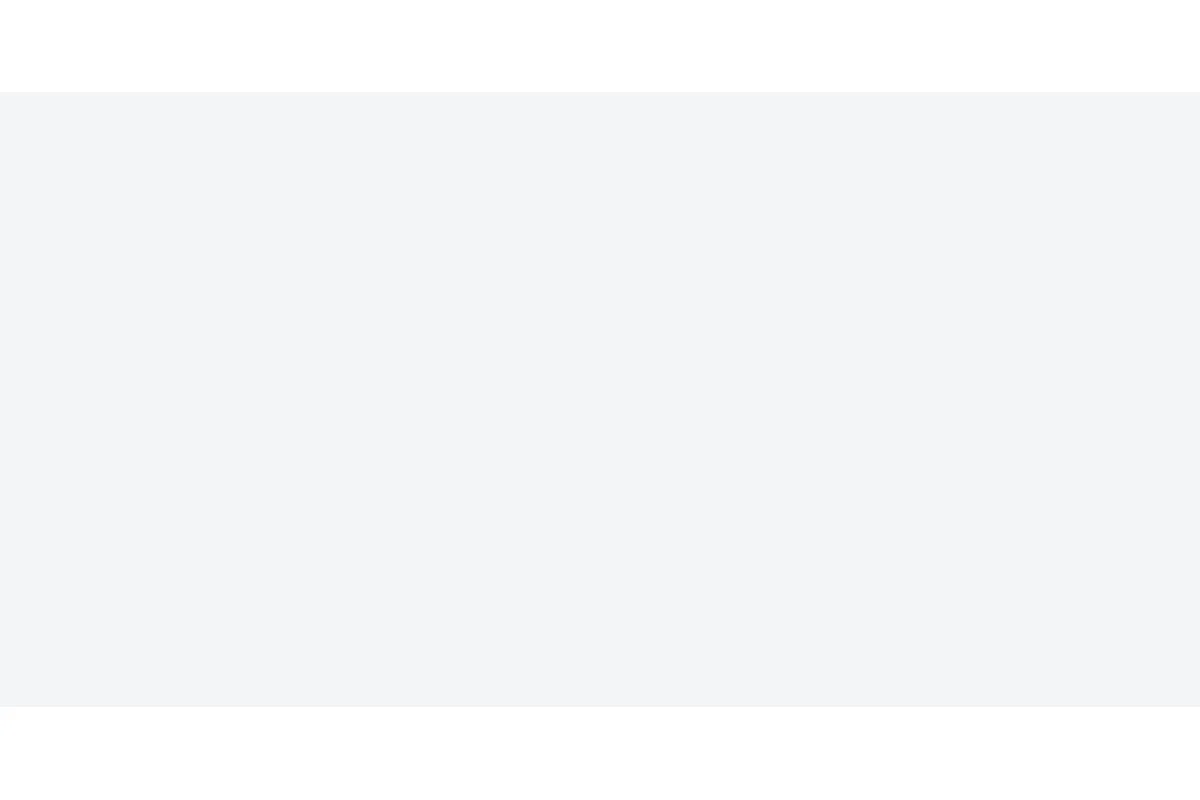Умер Глеб Павловский. Ушел
в первый день Великого поста. Это был очень символический человек, и смерть его
не могла не быть символичной. Родился он в день смерти Сталина за два года до этой
смерти. Никогда не любил, когда его поздравляли с днем рождения. Умер спустя три
дня после годовщины события, в силу которого он оказался в одиночестве среди друзей,
которые не могли простить ему примиренчества. Мне кажется, это был его последний
великий подвиг. Если сказать о нем главное, то это был интеллигент-одиночка, всегда
умевший занимать свою особую позицию, не присоединяясь ни к одной из воющих стай.
Однако в отличие от других великих одиночек, он умел вести за собой людей и всю
страну.
Я лично впервые увидел
это имя: Глеб Павловский - на страницах журнала «Век XX и мир» осенью 1990 года.
Можно точно сказать, что именно этот журнал был лучшим из тех политических изданий,
что появились в годы перестройки. Только на страницах этого тонкого ежемесячника,
издаваемого, кажется, Комитетом защиты мира, отстаивалась мысль о том, что либерализм
на евразийском пространстве возможен только в условиях сохранения обновленного СССР.
Если Союз распадется, и на его месте возникнет десяток автократических режимов,
включая российский, это приведет к краху всех усилий по вестернизации полуазиатского
пространства. Поэтому, делали вывод Павловский и его единомышленники, СССР надо
спасать в том числе от тех, кто хочет его распада для продвижения дела демократии
и либерализма. Сейчас всё это звучит почти как аксиома. Тогда это попахивало близостью
к условному «Алкснису» и, соответственно, отчуждением от либеральной тусовки.
Потом был 1993 год
и отчаянная попытка Глеба с соратниками, среди которых был и мой отец, создать демократическую,
то есть, по существу, либерально-западническую оппозицию Ельцину. Из этого ничего не получилось или, точнее, почти ничего, потому
что из этих усилий в конце концов родилось «Яблоко», с которым Павловский резко
разошелся уже в следующем 1994 году. Глеб посчитал, что Россия вынуждена силовым
путем решать чеченский вопрос, и позиция Явлинского,
безоговорочно осудившего операцию в Чечне, политически тупикова. За этим последовало
сближение Глеба с Администрацией президента, национальная слава Фонда эффективной
политики и его участие в избирательных кампаниях 1996 и 1999 годов. Буду честен,
тогда я считал союз с Ельциным просто изменой убеждениям, сейчас я смотрю на это
иначе. С высоты 2023 года политические обстоятельства конца 1990-х обретают много
иных измерений. Но об этом когда-нибудь позднее.
В мае 2008 года, когда
я уже работал в ФЭПе и числился шеф-редактором «Русского журнала», Глеб сказал мне,
что в 1991 году думал, что, если бы он тогда мучительно не разводился, то спас бы
Советский Союз. Мне кажется, он с тех пор всё время спасал по-своему Советский Союз,
иногда удачно, иногда, к сожалению, безуспешно. В конце 1990-х Павловский по-своему
тоже спасал Советский Союз, точнее ту самую «суверенную Россию», которую он принял
с большим трудом, но, приняв, понял, что спасти ее может только разумный просвещенный
режим, идейно и экономически ориентированный на Запад, но политически отстаивающий
свое право от Запада отличаться. Вот эту систему «двойного наведения» Павловский
впоследствии назвал «Системой РФ». Он действительно считал, что Россия всерьез и
надолго приняла эту «Систему» и без нее она в настоящий момент не жизнеспособна.
До Павловского феномен
Путина или, скажем аккуратнее, Путина нулевых годов был невозможен. Не было в
1990-х годах такой политической ниши - экономического рыночника и при этом жесткого
государственника, не было никого, кто соединял бы в себе черты Чубайса и Жириновского.
Всякий, кто отваживался эту нишу занять, проваливался в маргинальность. Павловский,
как он мне сам рассказывал, настаивал на том, что рынок в соединении с государственностью
- это самый перспективный вариант, и этот вариант победил. В чем была его логика?
В том, что русские люди хотят сильного государства, империи, но не хотят возвращения
типичной советской номенклатуры с характерными для нее манерами поведения. Люди
не хотят возвращения старого режима, они хотят режима нового в сочетании с элементами
старого. То есть сильного государства в союзе с инициативным бизнесом. Потом к этому
рыночно-государственному комплексу добавился еще и «креативный класс», который должен
был возглавить новый президент РФ Дмитрий
Медведев. Но здесь синтеза не получилось: «креативный класс» выступил на Болотной
против возвращения Путина, и Глеб посчитал, что обязан присоединиться к этому протесту.
Мне лично он говорил, что не надеется ни на какую победу этого протеста, и его цель
на самом деле состоит в том, чтобы Путин и Медведев вместе пошли на выборы. Затем
на этих выборах Медведев бы закономерно проиграл, после чего возглавил бы либеральное
меньшинство России, не правящее, но, тем не менее, влиятельное и организационно оформленное.
Кто знает, может быть,
это было бы хорошей альтернативой. Но меня она категорически не устраивала. Как
и многие другие представители того лагеря, который сегодня чаще всего называют
«консервативным», меня раздражала известная способность либерального меньшинства
захватывать все культурные и экономические ниши, выталкивая из них сторонников иных
взглядов. Понятно, что условно медведевская либеральная «треть», не неся никакой
ответственности за происходящее в стране, определяла бы положение дел в литературе,
образовании, науке и философии, что отчасти
и случилось если не в России, то в Москве в короткий период, примерно с
2016 по 2020 годы.
Короче говоря, мы
с Глебом Олеговичем разошлись довольно сильно примерно в 2011 году — и расходились
всё дальше и дальше. Пиком этого расхождения стали 2014-2015 годы, когда я верил
в то, что Русская весна преобразит Россию, и в том числе изменит в лучшую сторону
эту самую «Систему РФ», а Павловский видел в этом мои наивные иллюзии, в общем непозволительные
для человека старше 35. Помню, я что-то говорил в ФЭПе на тему мистического значения
«отцовства» в русской мысли, и я никогда не забуду то выражение лица, с которым
покойный смотрел в мою сторону. Между тем, мы всё же сохраняли отношения, нельзя
сказать, что очень близкие, но, тем не менее, довольно теплые. Мне приятно сознавать,
что эти отношения, скорее, улучшились и еще более потеплели в последний год его
жизни, год, который оказался первым годом военной операции, видимо, окончательно
похоронившей ту самую «Систему», в долговременности которой покойный не сомневался.
Дело в том, что в
2022 году Павловский снова остался почти в полном одиночестве: его ругали как сторонника
мира те, кто хотел окончательной и однозначной победы либо одной, либо другой
стороны. В либеральном лагере он был почти единственным (потом уже выступил Явлинский
и члены его партии), кто обсуждал перспективы мира, а не свое участие в обустройстве пост-путинской России.
Мы с ним записали интервью этим летом, которое частично появилось на ПабликО, где
обсуждали варианты и возможности мирного соглашения. В сентябре, примерно за месяц
до инсульта, мы снова имели возможность пообщаться относительно опасности нового
витка эскалации, после удара по СП-2. Следующий раз увиделись уже в хосписе.
Что можно сказать о настроениях Глеба в эти последние для него месяцы? Мне кажется, он был явно зол
на американцев и, в первую очередь, на Байдена
за срыв мирных соглашений в марте 2022 года, которые бы могли привести к окончанию
войны. Он, как и я, надеялся на временное перемирие, которое бы стало постоянным.
И, что мне показалось удивительным, он, кажется, переживал не только за Россию в
целом, но и лично за Путина. Глеб вообще относился к нему всегда сложно, и эту сложность
я едва ли смогу выразить однозначно в этом тексте. Я бы сказал так: он считал, что
эту самую, наспех выстроенную «Систему РФ» надо оберегать от самых благородных моральных
импульсов, исходящих не только от либеральной оппозиции, но и от патриотически настроенной
власти. Вот где-то здесь кроется вся сложность отношения Павловского к нынешней
ситуации.
Глеб Павловский несомненно
был одним из тех немногих людей, кто вообще имел вкус к сложности. Он не вписывался
ни в какие группы единомышленников, в основе которых лежала простота противостояния
«свои/чужие» или «друг/враг». Поэтому он оказался востребован историей, когда возник
спрос на «сложность», и оказался отодвинут
от активного участия в политике, когда стала побеждать «простота». Он до конца был
убежден, что Россию спасут только «сложные» люди, понимающие самоубийственность
радикальной «простоты». Есть все основания согласиться с покойным в этой его главной
интуиции.