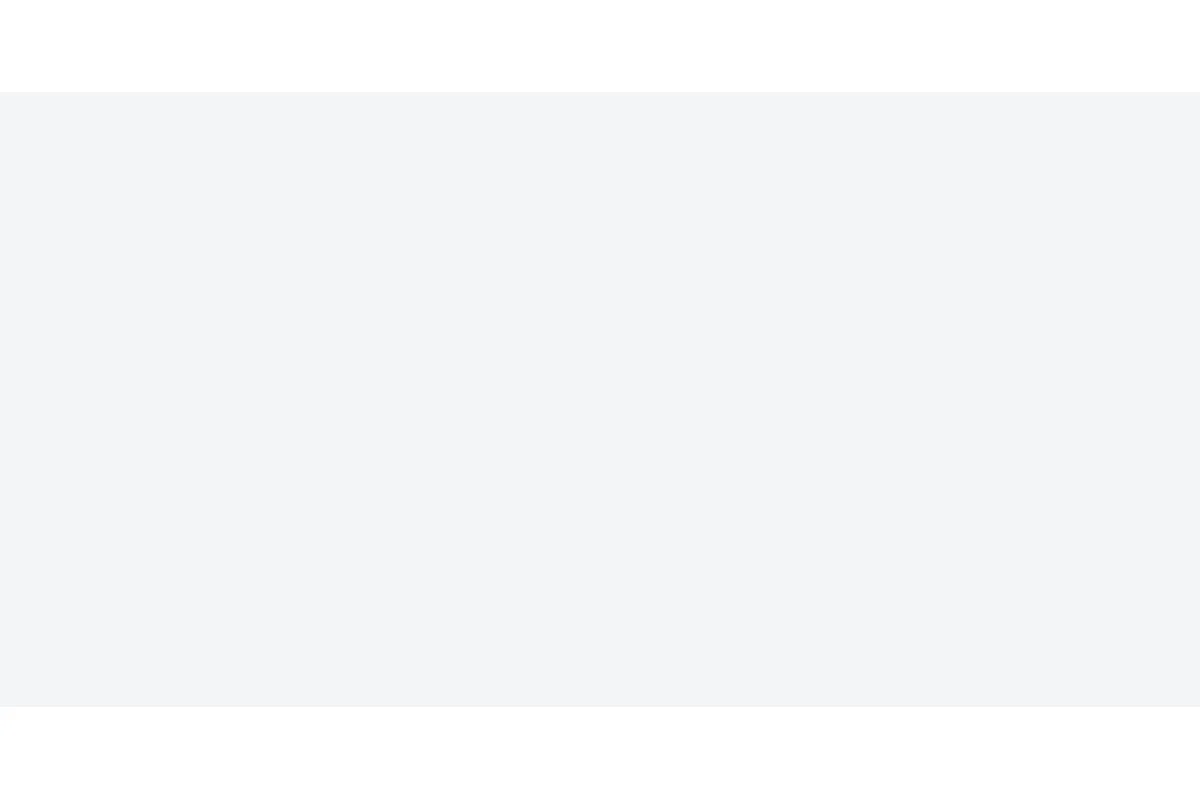Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака опубликовал на этой неделе российский Минпромторг. В него вошёл 41 проект в различных регионах страны. Больше всего в Мурманской области (6 проектов), на Сахалине (5 проектов) и по четыре в ЯНАО и Иркутской области.
«Минпромторг России совместно с субъектами Российской Федерации, а также промышленными и энергетическими организациями систематизировал более 40 проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака из различного сырья. На этой основе мы создали Атлас, который служит ориентиром и для иностранных инвесторов, и для отечественных машиностроителей. Российские водородные проекты будут способствовать декарбонизации промышленности, энергетики и всей экономики в целом», - приводит ведомство слова министра Дениса Мантурова.
Что бы кто ни говорил, но наша страна, оставаясь одним из крупнейших поставщиков нефтегазового сырья в мире, весьма уверенно чувствует себя на пороге неминуемого энергоперехода.
С 1994 года Россия является стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
В 2019 году Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, цель которого не допустить рост глобальной температуры свыше 1,5 °C к середине века.
С 1 января 2022 года вступил в силу 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов».
Полной декарбонизации мы должны достичь к 2060 году, хотя развитые экономики намерены добиться этого на десять лет раньше. Но уже сейчас страна нащупывает свое место в новом дивном безуглеродном мире.
В России действуют некоторые преференции для организаций, инвестирующих в развитие технологий декарбонизации: снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду для компаний, использующих наилучшие доступные технологии (НДТ), компенсация государством части расходов на экологическую модернизацию производства и др.
Представитель Минэнерго говорил «Ведомостям»: «У всех крупнейших российских нефтегазовых компаний запланированы мероприятия по изучению технологий, большинство имеют средне- и долгосрочные цели по снижению углеродного следа, некоторыми компаниями уже осуществляются проекты закачки CO2 в пласт для повышения давления и связанного с этим увеличения добычи нефти и газа, а также рассматривается создание инфраструктуры для улавливания, транспортировки и хранения углерода».
Технологии будущего страна отрабатывает в Сахалинской области, где с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028 года будет проходить эксперимент по достижению углеродной нейтральности, которая в регионе намечена на 2025 год.
Учитывая размер территории, площадь лесов, (леса – один из главных природных поглотителей CO2), опыт энергопоставок и мощный ТЭК, у России есть все шансы, чтобы войти в число лидеров безуглеродной экономики.
Это звучит парадоксально с учетом нашей нынешней зависимости от нефтегаза – по данным ФТС, удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре нашего экспорта за первые 11 месяцев 2021 года составил 54,2%. Но у страны просто нет другого выхода. Чтобы выжить, в начинающейся карбоновой гонке нужно победить.
Прощайте, стейки!
В начале этой недели авторитетное международное исследовательское агентство McKinsey Global Institute опубликовало доклад со своей оценкой стоимости и неминуемых рисков глобального энергоперехода на период до 2050 года.
Эксперты отмечают: «В рассматриваемом здесь сценарии "Чистый ноль 2050" спрос на продукцию с высоким уровнем выбросов будет сокращаться, в то время как потребление продукции с низким уровнем выбросов создаст возможности для роста. К 2050 году объемы добычи нефти и газа будут соответственно на 55% и 70%ниже, чем сегодня. Добыча угля для использования в энергетике почти закончится к 2050 году. Спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в конечном итоге прекратится, поскольку продажи электромобилей увеличатся с 5% продаж в 2020 году до практически 100% к 2050 году. Производство стали увеличится примерно на 10% по сравнению с сегодняшним днем, но при этом производство стали с низким уровнем выбросов вырастет с четверти всего производства до почти 100% к 2050 году».
До сих пор считалось, что «чистый ноль» обойдется миру примерно в 3-4,5 трлн дол ежегодно до 2050 года. Но McKinsey поднимает планку: по мнению его специалистов, общая сумма глобальных затрат на энергопереход составит 275 трлн долл, по 9,2 трлн в год. Эта сумма эквивалентна примерно 7,5 процентам ВВП с 2021 по 2050 год. Половину расходов понесут крупнейшие экономики мира—Соединенные Штаты, Китай, Европейский Союз, Япония и Великобритания, но для них эти траты составят около 6% ВВП. А вот для экономик, основанных на ископаемом топливе и первичной переработке, ценник будет выше. Для стран Ближнего Востока, Северной Африки, Украины, некоторых стран СНГ и для России McKinsey оценивает эти расходы в 15-21% ВВП.
Ничего хорошего эксперты не сулят в ближайшие десятилетия и рядовым потребителям. Придется поменять даже пищевые привычки, перейдя с неэкологичного мяса жвачных животных на мясо птицы. Но помимо отказа от стейков, есть опасности посерьезней.
На 30% и 45% соответственно по сравнению с их нынешним уровнем вырастут цены на цементную и стальную продукцию, то есть подорожает недвижимость. Неминуемо вырастут цены на электроэнергию, причем, как отмечают эксперты, «фронтально» - при производстве, передаче, распределении и хранении. После полного энергоперехода и смены технологического оборудования в глобальном масштабе стоимость энергии снизится, но все равно в 2050 году она будет на 20% выше, чем сейчас. Ударят по бюджетам необходимость перехода на электромобили, смена систем обогрева и кондиционирования домов. «Особенно подвержены риску домохозяйства с низкими доходами», отмечается в докладе.
Рынки труда подвергнутся революционным потрясениям. К 2050 году появится около 200 миллионов новых рабочих мест, однако будет потеряно 185 миллионов в «старых» отраслях экономики.
Но откроются новые возможности, в том числе и для России. У нас хорошие шансы для рывка в развитии сельского хозяйства, ветрогенерации, производства электромобилей и солнечных панелей, в развитии водородной энергетики. В докладе McKinsey говорится: «Спрос на электроэнергию в 2050 году будет более чем вдвое больше, чем сегодня. Производство водорода и биотоплива увеличится более чем в десять раз в период с 2021 по 2050 год. Другие отрасли промышленности, например те, которые управляют углеродом с помощью технологий улавливания и хранения углерода, также могут расти».
«Мы создали монстра»
Серьезным риском специалисты McKinsey считают опасность неконтролируемого энергоперехода, когда изменения происходят слишком быстро или слишком медленно. И в том, и в другом случае высок риск образования дефицитов и разгон инфляции. «Трансформацией энергетической системы необходимо тщательно управлять», отмечают эксперты. Оле Хансен, эксперт по стратегиям на товарно-сырьевом рынке, пишет: «Декарбонизация мира будет все больше приводить к так называемой «зеленой» инфляции, когда растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса «зеленого» перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением, отчасти обусловленным такими сводами принципов, как ESG, запрещающими некоторым инвесторам и банкам поддерживать добычу полезных ископаемых и проекты, связанные с бурением».
Первый звоночек уже прозвенел. Разразившийся в Европе энергетический кризис, в котором сплелись воедино геополитика, слишком поспешный отказ от атомной энергии и других традиционных ресурсов, излишнее доверие к новым источникам энергии вроде ветрогенерации, может стать первым уроком для всего человечества на пути к чистому нулю.
Известный экономический Нострадамус, датский Saxo Bank в последнем квартальном прогнозе отмечает: «В 2021 году мы увидели рост цен на энергию и электричество, подобного которому не наблюдалось с 1970-х годов. Цены на электроэнергию в Европе выросли в десять раз по сравнению с долгосрочным средним уровнем, что частично связано с перебоями в поставках из-за рубежа, но также усугубляется отсутствием базовой нагрузки, вызванным закрытием Германией своих АЭСГ. Новые альтернативные источники энергии пока не могут ее заменить. … Мы создали монстра, в рамках которого политический приоритет – переход к «зеленой» энергетике – подпитывает энергетический кризис. Альтернативная энергия сама по себе не может обеспечить будущее при сохранении нынешнего уровня жизни».
Вывод совершенно замечательный: «Для 2022 года большой революцией стало бы начало построения нашего энергетического будущего на основе реализма, а не фантазий». Да и для последующих годов совет звучит неплохо.
Александр Богомолов, экономический обозреватель PublicO
Вопросов по энергопереходу больше, чем ответов. Неудивительно, что в последнее время проходит много консультативных информационных мероприятий, во время которых специалисты в режиме мозгового штурма пытаются наметить пути в бескарбоновое будущее.
Одно из них 3 февраля состоится в Москве. Коммуникационное агентство «Главный Советник» организует круглый стол на тему «Климатическая повестка: роль технологий в развитии коммуникаций».
Среди участников – представители таких организаций, как Министерство природных ресурсов и экологии РФ; ПАО «ГМК «Норильский Никель»; ОК «РУСАЛ»; НК «Лукойл»; ПАО «Трубная металлургическая компания»; Венчурный фонд «Восход»; АО «Газпром банк»; ПАО «Сбербанк»; АО «Бизнес Ньюс Медиа»; Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»; ПАО «Сегежа Групп»; АНО «Сад памяти»; ИКЕА Россия; Авиакомпания S7 Airlines; Институт стратегических коммуникаций.
Контакты: Петровская Анна Павловна, +7 (925) 705-60-88, e-mail: apetrovskaya@glavsovetnik.com и Гончаренко Татьяна Игоревна, +7 (916) 880-90-69, e-mail: t.goncharenko@amr.ru