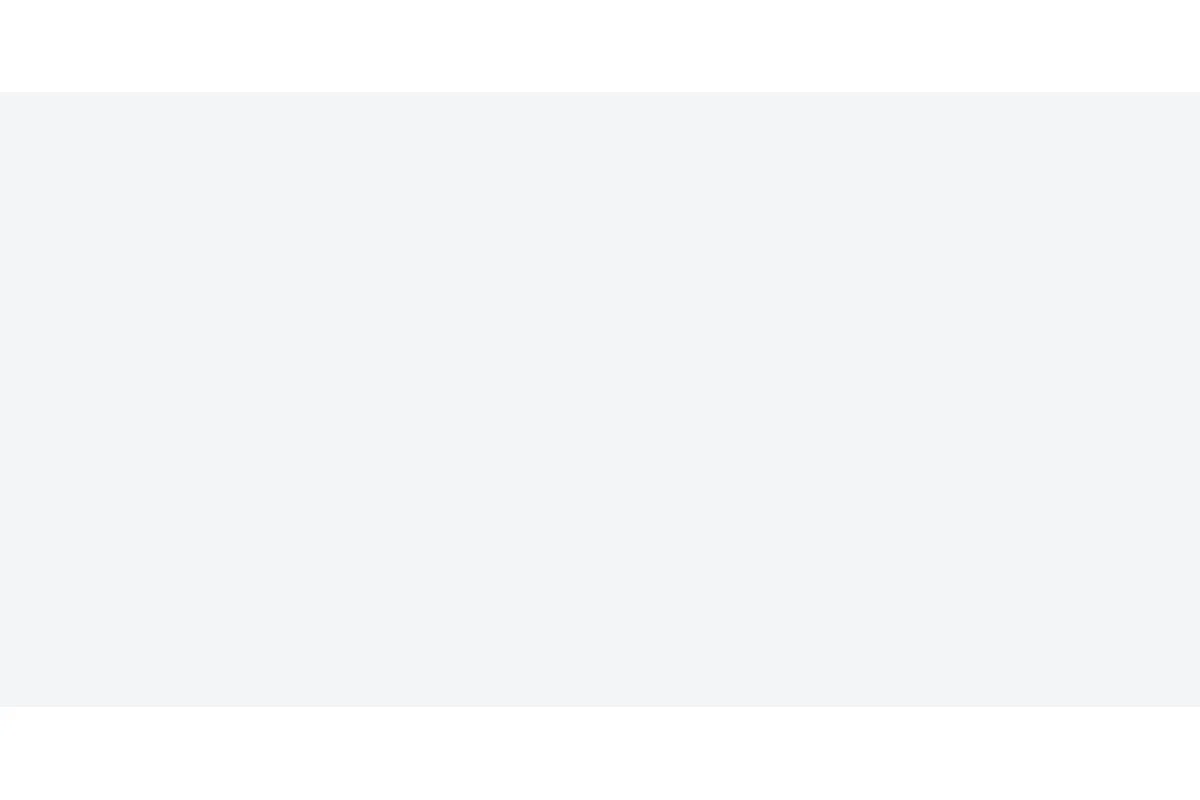Израиль на пороге гражданской войны.
О высокой вероятности такого сценария говорят уже не только
впечатлительные публицисты, но и президент страны Ицхак Герцог.
При этом нельзя сказать, что братоубийственных конфликтов никогда не
было в еврейской истории.
Они случались и в древности, в конечном счёте, став одной из ключевых
причин потери народом государственности.
Они возникали и между создателями современного Израиля. Чуть менее 75
лет назад, в июне 1948-го, в Тель-Авиве вспыхнули столкновения между
подразделениями «Пальмах» и «Эцель» -- боевым крылом левых сионистов,
возглавляемых премьером первого израильского правительства Давидом
Бен-Гурионом, и последователями Владимира (Зеева) Жаботинского, так
называемых «ревизионистов».
Помехи справа
Сионистский проект не просто не избежал, но стал одним из ярких
примеров «единства и борьбы» социального и национального.
Бен-Гурион, его союзники и многие предшественники рассматривали
молодое еврейское государство как плацдарм для построения нового общества.
Для Жаботинского приоритетом оставалось обретение своей земли, а
значит, и безопасности, всеми евреями, вне зависимости от их рода деятельности
или степени религиозности. Именно поэтому он отвергал пренебрежение своих
социалистических оппонентов к «лавочникам», считал классовый подход
«реакционным», препятствующим достижению национального единства и выдвигал в
качестве альтернативы концепцию корпоративного государства.
Не случайно, название блока «Ликуд», который сионисты-«ревизионисты»
сформировали в 1973-м, переводится с иврита как «консолидация». Правда,
потребовалось еще 4 года и тяжелый внутриполитический и экономический кризис -- результат весьма непростой, хотя и победной для Израиля войны Судного дня,
-- чтобы «правые» перестали быть маргиналами. В 1977-м «ликудовцы» выиграли
парламентские выборы, а их лидер Менахем Бегин стал премьером.
Вскоре, впрочем, выяснилось, что триумф оказался далеко не
окончательным. В еврейском государстве появился человек, обладавший влиянием,
даже превосходящим то, которым обладал глава правительства.
Это его юридический советник Аарон Барак. Занимая аналогичный
пост в предыдущем кабмине, он немало посодействовал отставке последнего,
раскрутив коррупционный скандал в отношении супруги бегиновского
предшественника Ицхака Рабина.
Вся власть суду
Но, возможно, Бегин оставил при себе бескомпромиссного правоведа не
только в благодарность за услугу. Имея за плечами стажировку в Гарварде и
будучи членом Академии Науки и Искусства США, Барак мог оказаться полезен в
восстановлении отношений с главным израильским союзником. Несговорчивость
израильтян в вопросе мирного урегулирования с Египтом сильно раздражала
Вашингтон. В 1975-ом Белый дом даже приостановил выполнение очередного
оружейного контракта с еврейским государством. И это при республиканце Джеральде
Форде.
С демократом Джимми Картером «правому» Менахему Бегину
поладить, очевидно, было намного сложнее. Тем показательнее, что правовую основу
знаменитых Кэмп-Дэвидских соглашений, де-юре завершивших войну Судного дня и
ставших первым мирным договором Израиля с арабским соседом, Египтом, -- готовил
никто иной как Аарон Барак.
А 28 сентября 1978-го, спустя 11 дней после завершения судьбоносного
саммита, в загородной резиденции американского президента 42-летний «вундеркинд
израильской юстиции» вошел в состав Верховного суда.
Это, на первый взгляд, не слишком заметное событие почти 45-летней
давности можно считать началом превращения судебной власти в доминирующую ветвь
власти в Израиле. В результате реформы, инициированной Бараком, в распоряжении
судей оказался практически неограниченный набор аргументов для отмены решений
правительства или кнессета.
Почему только почти полвека спустя и далеко не в первую свою
премьерскую каденцию Биньямин Нетаньяху решил восстановить утраченный
(по его мнению) «межвластный» баланс?
Личное и общественное
Оппоненты, конечно же, ссылаются на антикоррупционные дела,
возбужденные в отношении самого премьера. Дескать, атака на Верховный суд –
защита нападением, попытка заблаговременно подавить главную «огневую точку»,
способную инициировать его смещение с должности.
Но Нетаньяху слишком опытный и искушенный политик, чтобы играть
ва-банк (а именно это он сейчас и делает) при возможности обойтись менее
серьезными потерями без радикального повышения ставок.
Лишнее тому подтверждение – звонок Джо Байдену в декабре
2020-го с поздравлениями с победой в президентских выборах, итоги которых
«главный друг Израиля» Дональд Трамп тогда ещё пытался оспаривать.
Единомышленники увидят в судебной реформе стремление наконец-то
закрыть «ревизионистский» гештальт.
Тем более, что отец нынешнего лидера «Ликуда» историк Бенцион
Нетаньяху (Милейковский) не просто входил в число ближайших сподвижников
Жаботинского, но был его личным секретарем. С левым политическим и
академическим израильским истеблишментом Нетаньяху-старший конфликтовал
настолько остро, что в 1950-1960-е годы вынужден был даже на длительное время
переехать в США. В итоге, будущий премьер образование получил, главным
образом, за океаном.
Но это, опять же, не объясняет выбор времени наступления на тех, кого
в семье Нетаньяху издавна называют «большевиками».
Чудовище на шельфе
Зато монографии Бенциона Нетаньяху могут дать кое-какие подсказки.
Прежде всего, его исследования, посвященные средневековому еврейскому
философу Ицхаку Абарбанелю.
Этот мыслитель (кстати, дальний предок Бориса Пастернака)
известен, в частности, штудиями о том, что сейчас причислили бы к «вопросам
госустройства». Он отрицал, что монархия – оптимальная форма правления,
ссылаясь как на опыт современных ему итальянских городов-государств или же
республиканский этап истории Древнего Рима, так и на положения, вытекающие из
Торы и комментариев к ней.
Евреям «не нужен царь, чтобы давать законы, поскольку
Моисей уже дал им Закон. И не нужен, чтобы карать преступников, – ибо Синедрион
и без того имеет такие полномочия», - утверждал Абарбанель.
С большими оговорками (главная из которых –
нетеократический характер нынешнего государства Израиль) Синедрион можно
уподобить Верховному суду. Но следует ли отсюда, что Биньямин Нетаньяху своей
нашумевшей реформой противоречит установкам интеллектуального героя своего
отца, а значит (в какой-то степени), и его самого?
В подтверждение обратного стоит напомнить, что именно с
Абарбанелем Карл Шмитт связывает распространение легенды о праведниках,
которым после прихода Мессии будет даровано право вкусить мясо Левиафана.
(Ссылка на это предание есть у Гейне в «Диспуте».)
С учётом «общественно-политических» коннотаций,
обретенных библейским морским чудовищем благодаря Томасу Гоббсу,
концептуальный конфликт между Нетаньяху-младшим и учением Абарбанеля
нивелируется. Особенно, если, не ограничиваясь исключительно формальными критериями,
видеть в высшей судебной инстанции нынешнего Израиля не «реинкарнацию
Синедриона», а несущую конструкцию deep state.
При этом левиафановский символизм происходящего
усиливается ещё одним сравнительно недавним сюжетом, имеющим принципиальное значение
для израильского премьера и, возможно, определяющим столь горячо обсуждаемые
сегодня перипетии.
В 2010 году на средиземноморском шельфе вблизи Израиля было обнаружено
крупное нефтегазовое месторождение «Левиафан».
Причастность Нетаньяху к выбору названия не задокументирована, но
весьма вероятна. Ведь если есть сколько-нибудь эффективное средство для
обеспечения поистине мессианского благополучия всех слоёв израильского
общества, - то это сырьевая рента.
Пересовский проект Start-up Nation хорош для экономического роста и даже для
усиления геоэкономического влияния Израиля. Но основные его бенефициары –
высокообразованные ашкеназы, по иронии судьбы потомки тех
сионистов-эгалитаристов, с которыми спорили и подчас воевали идейные
предшественники Нетаньяху. Сефарды, фалаши (эфиопские евреи) и
«харедим» (религиозные) в силу многодетности и/или рода занятий оказываются в
стороне от этого праздника жизни.
Долговременный социальный мир в такой конфигурации едва ли реален.
Тем показательнее, что именно Верховный суд в марте 2016 года чуть
было не заморозил разработку «Левиафана», ссылаясь на «антимонопольные» и
«экологические» аргументы.
Многовекторность на грани
«Израиль теперь будут рассматривать как государство с чрезмерным
уровнем судебного вмешательства (выделено мной. – А.Б.), что может
затруднить ведение бизнеса», -- заявил тогда Нетаньяху.
Наверное, заинтересованность американских нефтегазовых
лоббистов и воцарение в Белом доме дружественного им Трампа сыграли
немаловажную роль в том, что израильским судьям пришлось пересмотреть свой
вердикт. Но пока «Левиафан» готовили к запуску, началось и антикоррупционное
расследование в отношении Нетаньяху.
Иными словами, версия его противников (об опасении
лидера «Ликуда» оказаться жертвой какого-нибудь «-гейта»), конечно же, не
лишена оснований. Другое дело, что шансы Нетаньяху избежать такого исхода
обратно пропорциональны геополитической капитализации израильского
нефтегазового проекта.
А она-то как раз стремительно растет. Поскольку на фоне
практически полного выдворения России с энергетического рынка ЕС Израиль
оказывается едва ли не единственным логистически комфортным для
южно-европейских стран поставщиком углеводородов.
По этой же причине в его ресурсной базе теперь
заинтересована претендующая на роль евразийского газового хаба Турция. И
опосредованно Китай, стремящийся не допустить экономической деградации Европы
– своего приоритетного рынка сбыта и (как мы отмечали в предыдущем тексте)
финальной цели глобальной экспансии.
Наконец, США. В свете всего вышесказанного будет, как
минимум, странно, если администрация Байдена потеряет интерес к «Левиафану» и
другим израильским месторождениям.
И что важнее – не попытается повысить управляемость
израильского руководства. С Нетаньяху или без него.
Соответственно, от исхода судебной реформы теперь
непосредственно зависит и то, останется ли у еврейского государства свобода
геополитического маневра. Сумеет ли Израиль приручить Левиафана или будет в
итоге приручен им.