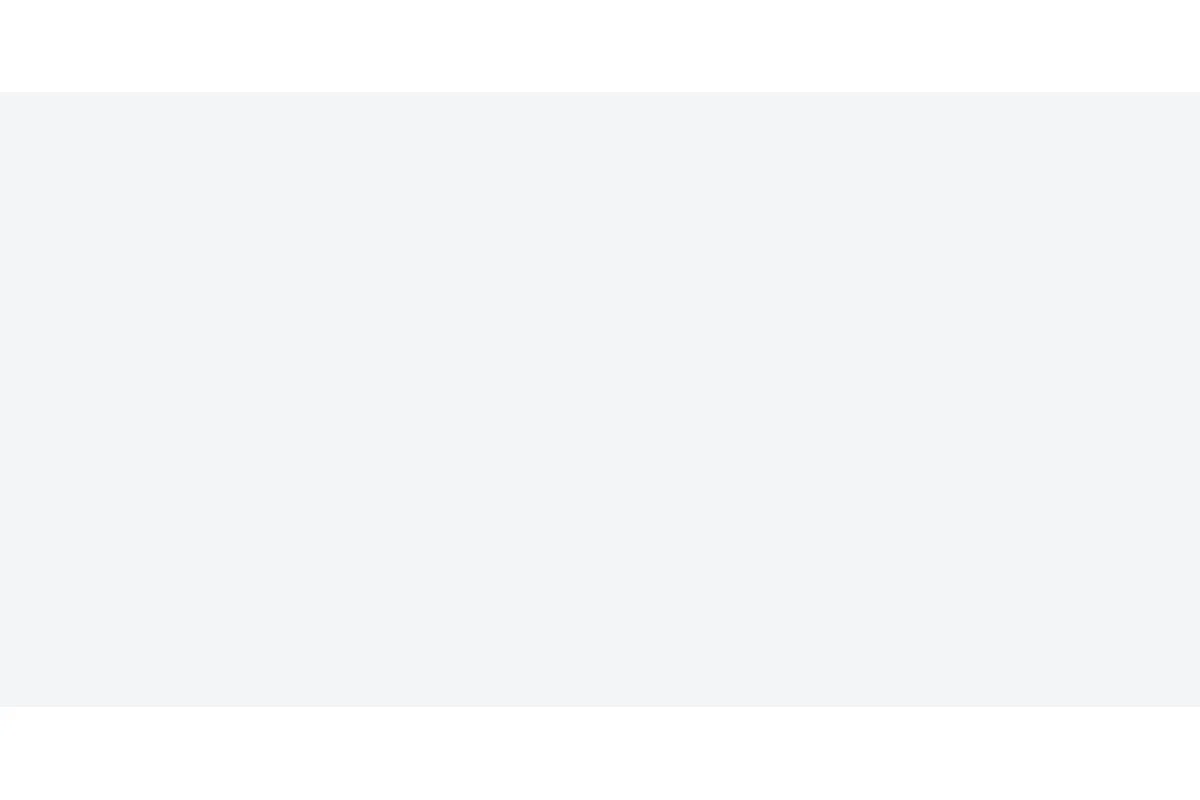Тему частичной военной мобилизации в последние дни пытается сменить тема экономической мобилизации.
На днях об этом в Госдуме РФ рассуждал ректор РАНХиГС Владимир Мау, предложивший включить сценарий экономической мобилизации в макроэкономический прогноз развития России. По его мнению, в это понятие входит усиление роли государства в экономике; построение специфичного рынка труда; институционализирование малого и среднего бизнеса. По Мау, роль государственных инвестиций в мобилизационной экономике вырастет.
Пока что первым мобилизованным на экономический фронт стал Фонд национального достояния: вчера премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об изъятии из него 1 трлн руб. для покрытия дефицита бюджета. В следующем году Минфин также рассчитывает полностью покрыть дефицит бюджета в 2,9 трлн рублей средствами ФНБ. Дефицит заложен на ближайшие три года. Ликвидная часть ФНБ, то есть средства в ЦБ, на 1 октября составляла 7,5 трлн руб.
Должно хватить.
Уж и еж
Мобилизационная экономика — это хозяйственная модель, позволяющая за счет максимальной концентрации ресурсов решать задачи выживания страны в условиях войны или природного бедствия. При таком режиме отключаются или значительно ослабевают рыночные стимулы, и управление экономикой осуществляется в соответствии с единым госпланом.
В российском законодательстве такого понятия нет, но этим летом был принят закон, дающий право правительству разбронировать материальные ценности госрезерва, привлекать работников предприятий к работе во внеурочное время. По этому закону компании не могут отказаться от оборонных заказов. В Законе «О военном положении» предусмотрены ограничения на оборот имущества, свободное перемещение товаров и распространение информации, а также изменение режима трудовой деятельности.
Но это детали.
Мобилизационная экономика, в том виде, как ее сейчас обсуждают, — это попытка скрестить рыночного ужа и ежа военно-ориентированной системы хозяйства. А ведь наша существующая рыночная система, как показали прошедшие с 24 февраля 8 месяцев, удар держит.
В вышедшем на этой неделе отчете ЦБ за III квартал говорится, что экономика «в целом показала высокую адаптивность к внешнеторговым и финансовым ограничениям. Существенная доля компаний нашла возможности изменить географию поставок своей продукции, привлечь новых поставщиков, решить логистические проблемы».
Аналитики ЦБ отмечают переориентацию «производств на внутренний спрос и устойчивость к текущему шоку отраслей, обслуживающих частное потребление». В них «отставание выпуска от уровня III квартала предыдущего года составляет лишь порядка 1%. В августе расширение выпуска наблюдалось в отраслях производства напитков, мыла, косметики и парфюмерии, а также легковых автомобилей … Структура потребления может начать нормализовываться, а динамика предложения — опережать динамику спроса. Это может стать дезинфляционным фактором, способствуя возврату инфляции к целевому уровню в 2024 году».
Но негатива и неопределенностей больше, чем этого робкого оптимизма.
- «В начале осени снижение экономической активности возобновилось на фоне роста неопределенности. Потребительская активность начала ослабевать. Сокращение численности рабочей силы создало риски для непрерывности работы отдельных производств;
- основной негативный эффект внешних ограничений в нефтяной отрасли и на поставки инвестиционных и высокотехнологичных товаров, по-видимому, впереди. Они проявятся к концу этого года, а в основном в 2023 году;
- изменение потребительских настроений на фоне роста неопределенности может временно сдержать восстановление потребления в начале IV квартала. В конце сентября произошло переключение домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от необязательных трат (развлечения, такси и другие)».
Экономике в условиях СВО и санкционной войны непросто. Может возникнуть соблазн одним махом решить все проблемы и перевести нашу жизнь на военные рельсы, отказавшись от рыночных сложностей. Но это маргинальный и маловероятный сценарий. Тактический выигрыш чреват стратегическим поражением.
Перевод ряда отраслей, в первую очередь, ВПК на авральный режим — мера абсолютно адекватная. Такой переход уже происходит, но, как сказал нам в интервью известный экономист Иосиф Дискин, «называть это военной мобилизацией экономики — оксюморон». Отказа же от рынка в целом ожидать не стоит. По крайней мере, в ближайшее время.
Уроки истории
В истории нашей страны есть опыт практически мгновенного переключения народного хозяйства на обеспечение потребностей армии. Так было в период Великой Отечественной войны. Этот опыт хорошо известен. Но есть также и малознакомый нам и изрядно оболганный опыт Первой мировой войны.
В начальный период войны царское правительство, рассчитывая на скорое ее прекращение, не предпринимало серьезных мер по военной трансформации экономики. Только в августе 1915 г. возникли Особые совещания по обороне, продовольствию, топливу и перевозкам во главе с профильными министрами. Работа этих полувоенных органов позволила серьезно нарастить выпуск вооружения. В частности, производство винтовок за 1914—1916 гг. увеличилось в 11 раз, артиллерийского вооружения — в 10, боеприпасов — в 8,5 раза. Так что промышленность России оказалась неповинна в дальнейших событиях.
Александр Богомолов, обозреватель PublicO.