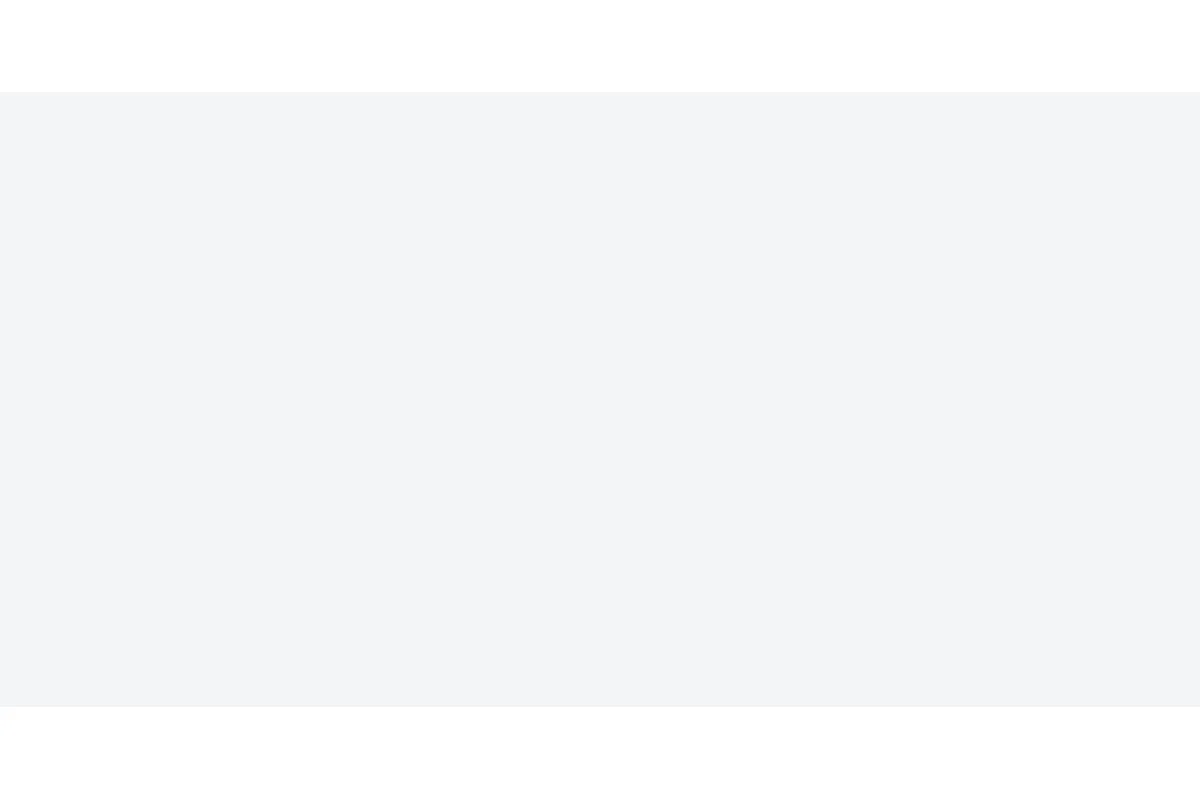60 лет назад, в октябре 1962 года мир оказался на грани ядерной войны между США и СССР. В последний месяц Карибский кризис регулярно вспоминают как в России, так и на Западе, а ядерная риторика регулярно звучит от первых лиц разных стран.
Неделю назад президент России Владимир Путин во время Обращения к россиянам предупредил тех, кто «пытается шантажировать Россию ядерным оружием», что «роза ветров может развернуться в их сторону».
Потом экс-президент, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи (Австралия) заявил, что НАТО необходимо исключить возможность применения Россией ядерного оружия. По его словам, альянс должен нанести «превентивные удары», «пересмотреть использование своего давления», а не ждать ударов от России. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров позднее заявил, что Зеленский не призывал к ядерным ударам по РФ, а «говорил о периоде до 24 февраля».
Кабмин ФРГ на вопрос о высказываниях Зеленского про «превентивный удар» заявил, что канцлер четко выступает против использования ядерного оружия
В пятницу высказался президент США Джозеф Байден: «Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса. Впервые после Кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация на самом деле продолжит развиваться по тому пути, по которому идет сейчас».
Карибский кризис 1962 года длился 13 дней, поводом стало решение США разместить в Турции ракеты, способные нести ядерные боеголовки. В ответ на это СССР перебросил ядерное оружие на Кубу. В итоге страны достигли компромисса и вывели ядерное оружие с этих территорий. Также США дали гарантии невмешательства в политический режим на Кубе. Между Москвой и Вашингтоном была создана прямая телефонная связь, а холодная война пошла на спад, наступила «разрядка», так как мир осознал серьезность ядерной угрозы.
Эксперты Publico рассуждают об уроках Карибского кризиса: выучены ли они? В чем они вообще заключаются — в поиске обострения или в умении находить компромисс?
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков констатирует, что, по историческим меркам, Карибский кризис повторился «почти молниеносно».
«В свое время был фильм «Охота за «Красным октябрем», где есть пример разрыва коммуникации с внешним миром: подлодка получает команду выпустить ракеты, после чего связь пропадает, и ее командир спорит с тем человеком, который отвечает за запуск, делать это или нет. В итоге они не выпускают ракеты, и судный день человечества не наступает. Возвращаясь к реальным событиям, тогдашний министр обороны Роберт Макнамара потом рассказывал, что американцы были испуганы перспективой ядерной эскалации больше, чем русские. Советские лидеры знали, что немного блефуют, и 26 октября тогдашний генсек Никита Хрущев сказал Политбюро: пойдемте в Большой театр, чтобы показать людям, что мы отдыхаем и успокоить их. А вот американцы паниковали, их настроения были близки к настроениям нашего сегодняшнего политического истеблишмента: взойдет ли солнце? Увижу ли я еще раз своих детей?
Такая разница восприятия была связана с тем, что наши считали американцев разумными людьми, которые в любом случае не допустят разрушения собственной страны. А вот американцы были о русских совершенно иного мнения, так как в начале XX века русские уничтожали свою страну ради революции, а потом в годы Великой Отечественной Войны не считались с собственными человеческими жертвами. Поэтому у американцев не было надежды, что русские поведут себя здраво. В итоге эмоциональный всплеск дал запрос на уменьшение градуса противостояния и поиск рациональных договоренностей. После Карибского кризиса началась военная деэскалация, и тот же Хрущев встречался с Эйзенхауэром, с Никсоном. Человек, который недавно грозил американцам «кузькиной матерью», уже шел на выставку товаров из США и первым удивлялся, как так у капиталистов все получается лучше, чем у социалистов.
Сейчас на нас снова «напал» 1962 год, продиктованный взаимным блефом и страхом. Думаю, что если все закончится так, как в 1962 году, то в мире снова встанет вопрос о необходимости сворачивания гонки ядерных вооружений. Кроме того, неминуемо встанет вопрос о диктате и границах права любых властей по применению ядерного оружия, когда население их собственных стран ничего не может сделать, чтобы остановить их. Думаю, что в рамках четвертой промышленной революции, ставшей предтечей всех нынешних конфликтов, как раз подразумевается, что нынешняя ситуация между Россией и США подтолкнет мир к тому, что можно будет назвать глобальным разоружением. Невозможно жить в мире, где такое может в любой момент произойти, и где власти начинают, как в покере, повышать ставки, а население с ужасом наблюдает и ждет, чем это закончится. Возможно, есть некая историческая предопределенность, которая завершится уменьшением военных рисков, хотя и заставить мир много чем пожертвовать ради создания новой системы глобального умиротворения», — говорит Гращенков.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов рассказывает: Карибский кризис осени 1962 года делит холодную войну на два примерно равных отрезка.
«До кризиса соперничество двух сверхдержав, СССР и США, хотя и было очень острым, находилось в процессе, если так можно сказать, становления, нащупывания границ возможного и допустимого в конфронтации. Период довольно бурный и весьма нервный. После Карибского кризиса начался интенсивный процесс стабилизации противостояния, которое к середине 1970-х годов достигло своего рода «оптимального» баланса: жесткие и соблюдаемые сторонами правила общежития в разделенной Европе, система договоров по контролю над вооружениями и относительно активно развивавшиеся экономические связи поверх идеологического барьера. Геополитическое упорядочивание привело к тому, что основная борьба переместилась либо на периферию (неосновной театр в Европе), либо в сферу внутренней стабильности противостоявших блоков. Последнее и обусловило итог холодной войны.
Именно Карибский кризис, по существу, очертил пределы геополитической конкуренции, показав реальность прямого столкновения ядерных сверхдержав и возможность взаимного уничтожения. Ключевым моментом было осознание последнего», — объясняет Лукьянов.
Он отмечает, что сегодня часто апеллируют к важности помнить (либо даже применять) уроки Карибского кризиса, понимая под этим доведение напряжения до предельно допустимой черты. Однако надо учитывать, что нынешнее противостояние имеет качественные отличия от того.
«Во-первых, оно не прямое, то есть Россия участвует в коллизии сама, а США — опосредованно, через своего клиента. Соответственно, создание прямой взаимной угрозы, как в 1962 году, требует изменения качества конфликта и перевод его на глобальный уровень. Это будет означать крайне резкую эскалацию, более опасную, чем 60 лет назад.
Во-вторых, современная мировая политика разыгрывается в среде, где нет сколько-нибудь эффективно функционирующих институтов. В 1962 году они были, хотя играли не определяющую, а вспомогательную роль. Сейчас ситуация скорее напоминает начальный этап холодной войны, отмеченный резкими колебаниями и зависевший гораздо больше, чем потом, от действий конкретных личностей.
Есть и третье обстоятельство, о котором говорят сейчас международники. В отличие от тогдашней ситуации, когда идея того или иного раздела сфер влияния считалась приемлемой, сейчас со стороны США присутствует убеждение, что «красные линии» им чертить никто не имеет права, соответственно, вопрос об их признании даже не может ставиться.
Эти три обстоятельства делают опыт 1962 года ограниченно применимым сегодня, точнее, воспроизводство той ситуации в принципе невозможно. Что же касается технических аспектов управления эскалацией, то до определенной степени они носят универсальный характер и должны учитываться теперь. Но сама по себе техника эскалации неспособна привести к переходу кризиса в конструктивную фазу, требуется более широкий набор мер и подходов», — резюмирует Лукьянов.
Политолог Константин Калачев говорит, что военный опыт Кеннеди и Хрущева сыграл положительную роль в решении кризиса.
«Ветеран Второй мировой войны Кеннеди прошел всю кампанию на Соломоновых островах в качестве командира торпедного катера. За храбрость, проявленную во время военных действий, был удостоен боевых наград. Хрущев тоже знал о войне не понаслышке. Он и сам играл активную роль на фронте, и сын его, летчик-истребитель, погиб в 1943 г. Как люди с фронтовым опытом, оба руководителя не хотели, чтобы кризис перешел в горячую фазу. Хрущев был человеком весьма эмоциональным, но рациональное взяло вверх. И Хрущев, и Кеннеди рассматривали ядерное оружие как инструмент сдерживания. Стороны смогли преодолеть взаимное недоверие. Пошли на компромиссы. Но уроки, похоже, забыты», — рассуждает Калачев.
Депутат Госдумы от «Единой России», политтехнолог Олег Матвейчев считает, что и СССР, и США в 1962 году «действовали рационально, прощупывая друг друга и взаимно переходя «красные линии».
«Обе стороны приставили к виску друг друга пистолет, после чего, как и положено в такой ситуации, договорились, что не будут убивать друг друга, а отойдут обратно за «красные линии» и обнулят ситуацию. Каждая сторона при этом старалась сохранить лицо и представить итог, как свою победу. СССР говорил, что победил, так как заставил американцев отступить, а американцы говорили, что победили, заставив русских убрать ракеты с Кубы. Для решения таких конфликтов нужно, чтобы у каждой стороны была возможность представить его, как свою победу. Если в итоге заключается неравновесный договор, а какая-то сторона выглядит проигравшей, это не очень хорошо. Надо искать равновесие, которое позволяет каждой стороне интерпретировать его так, чтобы сохранить свое лицо и показать чужой проигрыш. Равновесие заключается в возможности трактовок и в ту, и в другую сторону», — считает Матвейчев.
Политолог Глеб Кузнецов считает, что главный урок Карибского кризиса — это то, что «разумные люди всегда договорятся, и нет в мире таких ценностей, ради которых следовало бы развязывать войну с использованием оружия массового уничтожения».
Екатерина Винокурова, специально для PublicO.