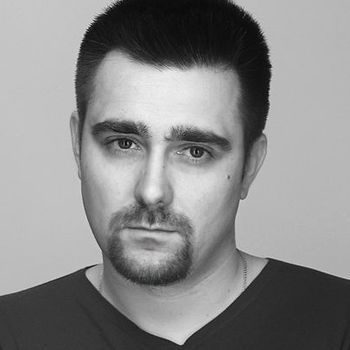Дугин является скорее западным, нежели российским мыслителем
Возможно, это прозвучит неожиданно, но, в силу своей принадлежности к европейскому традиционализму, Александр Дугин является, скорее, западным, нежели российским мыслителем. Неудивительно, что в своих публикациях он транслирует западные интеллектуальные схемы. Только меняет знаки: минус на плюс, и наоборот.
Например, для всей западной социальной мысли характерно противопоставлять традицию и модерн, а также считать модерн монополией Запада.
Поэтому, когда Александр Дугин говорит, что Россия отвергает модерн, он не только выдает желаемое за действительное, но и воспроизводит взгляд на Россию с Запада.
Русская социальная мысль никогда не работала в западных схемах. В том числе основатели евразийства. Или, например, наш современник Александр Панарин. Российский взгляд в том, что традиция и современность, традиция и развитие взаимно дополняют, предполагают друг друга. А духовные достижения и открытия одного народа по своей природе принадлежат всем народам, всему человечеству.
Если вникнуть в суть происходящих сегодня в России и в мире событий, нужно признать, что все обстоит ровно наоборот, нежели говорит Дугин.
Надо вспомнить, что в основе модерна лежат выдающиеся интеллектуальные открытия, прежде всего касающиеся духовной природы человека, а также возможностей социального, политического и технологического развития.
Это, в первую очередь, представления о суверенитете человеческой личности, ее достоинстве, свободе и правах. Представления о ценности уникальной человеческой личности и ее высоком нравственном и интеллектуальном потенциале. Представления о правовом и социальном государстве, о социальной справедливости, о возможности и важности всеобщего приобщения к культуре и духовным благам. Эти представления являются не «изобретением», не «конструктом», созданным в определенных культурных и социально-экономических условиях, а потому — якобы имеющих проходящую ценность. Речь идет именно об открытиях, смысл и ценность которых более не зависят ни от конкретно-исторической ситуации, в которой они «открылись» людям, ни от дальнейшего социально-исторического развития.
Сегодня именно на Западе отказываются от завоеваний модерна, от классических концепций человеческой идентичности и от модели социального и правового государства, доводят до абсурда и дискредитируют доктрину прав человека, пытаются построить новый социально-технологический уклад, основанный на минимизации участия человека в реальных властных, экономических и культурных механизмах.
Скорее, наоборот, Россия вступила в борьбу за модерн и за ценности высокого модерна, которые не могут и не должны быть монополией группы стран, которые к тому же отказываются от этих ценностей. А то, что сегодня мы называем ценности высокого модерна традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, — в том числе достоинство, свободу и права человека, — говорит о том, что действительно диалог традиции и современности, а не их оппозиция, является сущностным свойством нашей интеллектуальной культуры.