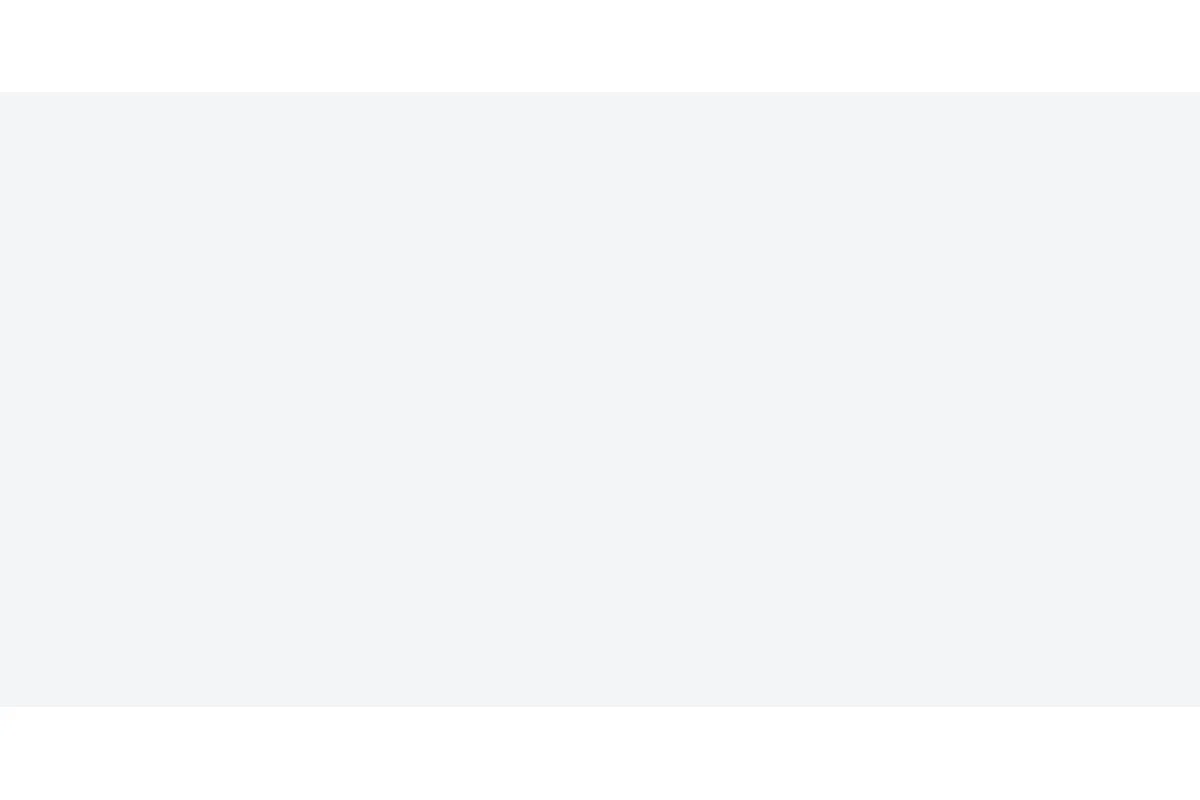Южнокорейская теледрама Игра в кальмара всего за 4 недели возглавила рейтинг самых популярных шоу платформы Netflix – сейчас она занимает первое место уже в 94 странах мира, включая США и Россию. Хотя чарты стримингового сервиса не позволяют оценить, сколько человек досмотрели сериал до конца, очевидно, что лента стала одним из интернет-трендов осени 2021 года, породившим целые цепочки мемов и множество фанатских теорий.
Простая форма критики капитализма
Сюжет Игры в кальмара едва ли является причиной беспрецедентной популярности шоу. Канву повествования составляет съемка игр на выживание, участники которых добровольно соглашаются на опасные состязания из-за финансовой нужды – главный приз составляет 45,6 миллиардов вон, что эквивалентно 38,5 миллионам долларов. Ключевой принцип игрового пространства и одна из мотиваций для вступления в него – недоступное в обычной жизни равенство между игроками (как мы узнаем позже, только провозглашаемое) и его грубая демократичность – соревнования могут прекратиться решением большинства во время открытого голосования.
Судьбу персонажей и их поступки почти всегда получается предсказать, так что сериал можно считать практически неуязвимым для спойлеров – впрочем, его главное преимущество состоит не в сюжетной интриге. Унизительная и опасная работа, выполнять которую решаются представители незащищенных и невидимых социальных сообществ, анонимная игровая корпорация с лицом улыбчивого рекрутера в офисном костюме, обманчивая иллюзия свободного выбора, сегрегация мигрантов и беженцев, карикатурные VIP‑клиенты – было бы странным не увидеть в этом сериале обличение современного общества или, как формулируют свою мысль многие комментаторы, безжалостную критику капитализма – критику, которая уже заработала 900 миллионов долларов компании Netflix, финансировавшей корейскую индустрию развлечений. Учитывая реальное положение дел, стоит признать, что сериал куда более саморефлексивен и ироничен, чем может показаться на первый взгляд – хотя, возможно, для это придется чуть глубже разобраться в традиционной корейской культуре. Но обо всем по порядку.
Повсеместная ностальгия
Глобальный успех Игры в кальмара, как, впрочем, и корейской поп-культуры вообще, можно объяснить заранее проектируемым разнообразием – типажей персонажей, сюжетных веток, визуальных образов, – которое рассчитано на максимально широкую аудиторию. Это предположение хорошо иллюстрируется симптоматичной для конца 2010–2020-х гг. темой ностальгии, составляющей, пожалуй, один из главных смысловых узлов сериала. Игра в кальмара поставляет тоску по прошлому очень разной публике – поколение 1970-х с ужасом узнает в костюмах игроков типовую школьную форму и вспоминает собственные дворовые забавы, подростки из 1990‑х прочитывают в декорациях стилистику ранних компьютерных аркад, а родившиеся в 2000‑е увлекаются ретроманией в тоске по большой истории.
«Когда я смотрел сериал, я чувствовал, что игры были показаны как какие-то уходящие реликты. Очевидно, что и персонажи ностальгировали по своему детству, но я остро ощущал, что это больше не те игры, в которые играют современные дети – все это были дворовые игры, но из-за меняющейся культуры мы перестали испытывать в них нужду», – отмечает корейский режиссер Кён Хён Ким. Но меланхолия и грезы о детстве – одна из ловушек коммерческой культуры, а не освободительная утопия – и это подчеркнуто в сериале композиционно. Например, брат героини-беженки из Северной Кореи тоже гуляет на улице с детьми, и все же оказывается вытесненным из их сообщества, вопреки романтизированной коллективности совместной игры. Той же критикой тоски по детским содружествам оборачивается сюжет о создателе корпорации, старике под номером 001, которого ностальгия практически толкает на преступление.
Экзотика корейской традиционной коллективности
Многие детали Игры в кальмара не рассчитаны на западную публику, но интуитивно ей понятны – несмотря на дискуссии о культурной и просто языковой непереводимости сериала. Даже не зная локальных детских игр, мы угадываем их правила и происхождение; критика социальной стратификации вызывает сочувствие, хотя и отсылает к конкретной реальности реструктурирования корейской экономики; нам понятна потерянность героини-миллениалки, хотя именно в странах «экономического чуда» число подростковых суицидов остается на чрезвычайно высоком уровне.
Тем не менее, в сериале много и специфически корейских черт, которые могут объяснить критическую позицию режиссера и даже уличить нас в неоколониальном взгляде. Игра в кальмара – довольно типичная корейская драма, основанная на структуре и стилистике местных игровых телешоу (наподобие, скорее всего, неизвестных читателю передач Infinite Challenge и Running Man) и заимствующая жанровые элементы традиционных массовых перформансов. Особенности сюжета и образной организации сериала, которые могут показаться западному зрителю абсурдным смешением жанров, излишней эмоциональностью актеров и отсылкой к утопическим моделям коллективности, на самом деле являются элементами традиционной корейской игровой эстетики. Они могут быть описаны, например, через понятие синмён (sinmyong), означающее совместное, катарсическое высвобождение энергии через участие в коллективном представлении. С чувством синмён связан феномен хюн (heung) – спонтанная радость и желание игры, возникающие как реакция на эмоционально тяжелые ситуации и реализуемые через причастность общности. Можно сказать, что создатели Игры в кальмара сталкивают в сериале две противоположных модели коллективности – социально детерминированную культуру семейной ответственности (мотивацией для участия в соревнованиях часто является стыд за неоправданные ожидания) и тему детских игровых альянсов, построенных, как может показаться, на чистой коммунальности и равенстве участников.
Так ли хорошо нам вместе?
Ассоциации с корейской коммерческой культурой позволяют критиковать романтический взгляд на природу этой традиционной коллективности. Как отмечает исследовательница корейского шоу-бизнеса Ким Гуён, именно эстетические категории синмён и хюн, ассоциирующиеся, во всяком случае у европейского зрителя, со свободой и радостью совместного дела, эксплуатируются в культуре айдолов, К-поп коллективов и корейских сериалов. Популярная сегодня массовая продукция учитывает потребность зрителя в соучастии, но стратегически использует это желание в соответствии с коммерческими императивами, что в принципе противоречит представлению о совместном эгалитарном культурном опыте. Другими словами, корейская эстетика коллективного аффекта эксплуатируется как одна из неолиберальных рыночных моделей, успешных не только на родине, но и на западе, и провоцирующих зрителя на эмоциональное, вовлеченное потребление.
Архетипичность персонажей, банальность сюжета, намеки на мета-позицию (в том числе и обнаруженная «пасхалка» с именем актера) и, главное, насмешка над зрительской сентиментальностью и ложной интенсивностью переживаний, чему посвящен финальный эпизод – все это заставляет подвергнуть осуждению не утрированно простой капиталистический мир вокруг нас, а самих себя как искушенных потребителей новых критических теорий. То, почему сериал так невероятно популярен, – и есть самая главная и интересная тема Игры в кальмара. И поскольку деконструкция неолиберальной экономики уже апроприирована механизмами привлечения аудитории, возможно, нам стоит задуматься не о ее критике, а о релевантности «капиталистической угрозы» как рабочей гипотезы, неэффективной для описания мира, и тем более его изменения.
Оценка зрителей
Музыкант Сергей Калугин искренне недоумевает по поводу ажиотажа вокруг сериала, который вызвал сериал. «Больше всего это похоже на кукольный деревенский театр: крестьяне вернулись с рисовых полей, выпили водочки и смотрят на представление с дальневосточными деревянными петрушками. Вся психология сериала построена на принципе «ха-ха-ха, я страшный злодей» и ударах по морде клоуну, визжащему «ой-ой-ой, господин, не бейте меня». Это абсолютно средневековая тематика, характерная и для той же Европы того периода, и для Дальнего Востока, т.е. все узнаваемо», - прокомментировал Калугин «Игру в кальмара» для PublicO.
Философ Игорь Чубаров, напротив, отмечает, что сериал выстроен очень грамотно. Выступая в экспертных дебатах PublicO, Чубаров сказал: «сериал стал метафорой сегодняшней жизни – конкуренции в рамках неолиберальной экономики, где идет какая-то глобальная игра, а на самом деле, как говорилось в «Матрице»: «Если ты умираешь в матрице, ты умираешь и в реальности». Здесь такие моменты тоже прослеживаются, людям это нравится неслучайно. Любопытно, что это метафора именно жизни на выбывание, иногда с не меньшими потерями, неудачами, убийствами и самоубийствами. Это отражение неолиберальной системы конкуренции, за которой наблюдают анонимные люди».
Поддерживает такое мнение и журналист Андрей Перла: «"Игра в кальмара" (не она первая, одна из многих, недавно были "Паразиты" там все то же самое гораздо лучше, на высоком художественном уровне, без халтуры) - это даже не приговор капитализму и мечте о том, что, играя по правилам, хорошо и много работая, стараясь и карабкаясь можно изменить судьбу. Это просто силами киноискусства констатация факта: пути наверх нет. Шансов нет. Хоть играй по правилам, хоть жульничай — суть в том, что правила пишешь не ты и победителей в игре определяешь не ты».
Текст:
Полина Аляксина, культуролог, обозреватель PublicO