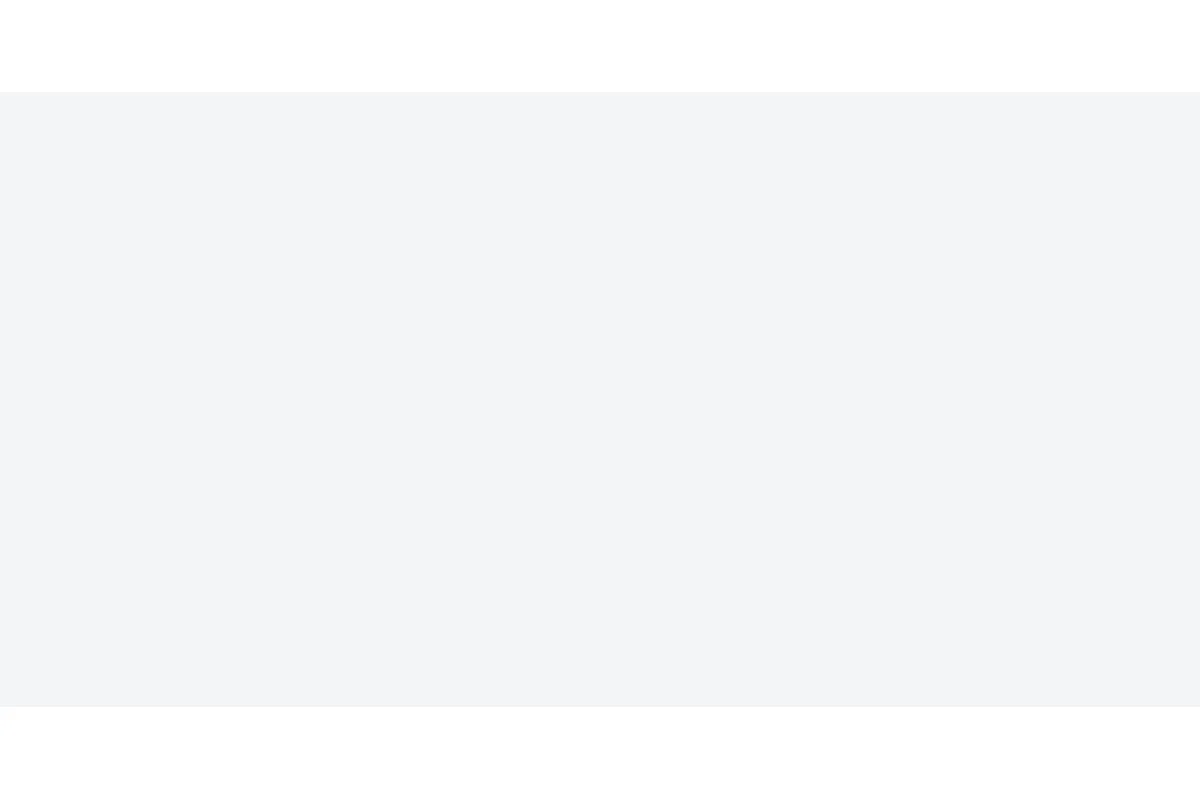В эти выходные российские войска оставили Красный Лиман «и отошли на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения», сообщает Минобороны России.
Эта новость, как и сводки от очевидцев с фронта в Херсонской области, которую в пятницу в торжественной обстановке приняли в состав России вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР, привела к тому, что в публичном пространстве прозвучала громкая критика Минобороны, причем не от оппозиционных политиков либерального толка, а от главы Чечни Рамзана Кадырова, которого поддержал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также многие военкоры и авторы телеграм-каналов, активно поддерживающих спецоперацию России на Украине.
Большинство реплик нельзя процитировать, по крайней мере, в полном виде, так как их могут признать дискредитацией этой операции или вооруженных сил или даже распространением фейков о российской армии.
Несмотря на такой риск, Кадыров в своем телеграм-канале написал, что не может молчать «о том, что произошло в Красном Лимане», и далее посвятил часть поста генералу-полковнику Александру Лапину. Кадыров поставил под сомнение его военные заслуги, за которые тому вручили звезду Героя России, заявив о провале снабжения Лиманского направления, а также военного управления происходящим. Кроме Лапина, досталось и неназванным представителям Генштаба. В заключение Кадыров призвал принимать «кардинальные меры» - вплоть до объявления военного положения и применения тактического ядерного оружия.
«Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», - написал Кадыров.
На пост Кадырова откликнулся Евгений Пригожин, опубликовав в своем телеграм-канале следующее: «Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт».
Далее, как уже говорилось, тему подхватили блогеры, поддерживающие спецоперацию, и к понедельнику критика Генштаба только усилилась.
Ранее те же блогеры (еще весной Фонд развития гражданского общества, который возглавляет экс-глава управления внутренней политики администрации президента Константин Костин, предложил называть людей таких взглядов «рассерженными патриотами») активно включились в публичную борьбу со случаями незаконной мобилизации, критикуя военкомов на местах, отсутствие на складах экипировки и другие подобные ситуации.
Опрошенные PublicО эксперты придерживаются разных оценок на тему полезности такой дискуссии в публичном пространстве в нынешние времена и говорят, что само ее наличие может быть признаком начала довольно серьезного системного кризиса, который потенциально может коснуться не только ситуации вокруг фронта, но и других политических аспектов.
Депутат Госдумы от «Единой России», политтехнолог Олег Матвейчев категорически против того, чтобы дискуссии о фронтовых событиях становились достоянием общественности.
«Огромное количество военных настаивает на том, что вообще в зоне боевых действий не только не должны применяться, например, фотографии или какая-то аппаратура, потому что по ним легко узнаются координаты, но и вообще шататься какие-то люди, которые к этому никакого отношения не имеют, которые могут выполнять и разведывательные функции, на которых нужно отвлекаться, тратить время на их охрану — я имею в виду в том числе военкоров и так далее, экскурсии различные устраивать. Потому что у военных есть другие задачи, нежели чем заниматься экскурсиями. Уже само это ставит вопрос о целесообразности их присутствия.
Я уже не говорю про то, что множество фото- и киноматериалов передергиваются и используются в различных фейках, используются якобы как «доказательства» чего-то. Если уж давать право какой-то открытости, то самой армии, которая может иметь в своем составе людей, специально на это уполномоченных, и которые документируют их деятельность на всякий случай. Например, пришли в освобожденный город: зафиксировали, сфотографировали — пригодится для будущих судов. Или каких-то людей допросили, сфотографировали, записали — тоже пригодится. Или оставляют какой-то город: зафиксировали, в каком состоянии его оставили, что никаких Буч потом не возникало. Такие вещи нужны, но они должны идти через само военное командование», - отмечает Матвейчев.
Он настроен категорично: «разговоры о том, как ведется операция, как освещаются последние события, — это, конечно, полное безобразие, потому что любые люди, которые являются дилетантами в военных вопросах, даже не дилетанты, но не находятся непосредственно в зоне боевых действий, их мнение не должно даже высказываться, не то что учитываться. Оно не должно высказываться просто в связи с тем, что оно априори является односторонним. Если человек и даже находится в зоне боевых действий, то он тоже видит все со своей колокольни. Он не видит это, так как это видит Генштаб».
«Истина рождается в каких-то совещаниях, когда складываются сомнения различных служб: кто-то смотрит со спутников, кто-то изучает доклады от десятков и сотен подчиненных непосредственно с места событий, которые наблюдают в приборы и с коптеров; авиация, специальная разведка что-то докладывают — вот все это вместе только дает некую общую картину, принимаются определенные решения. Как правило, решения в штабах принимаются очень трудные. Не бывает такого, чтобы не приняли хорошее решение, посмотрев и отбросив пять плохих. Всегда решение у действующих людей — это выбор из двух зол меньшего. Иногда эти решения такого экзистенциального плана, которые в свое время Сартр описывал в своей знаменитой статье «Экзистенциализм — это гуманизм». Он говорил, важные решения во всех случаях нарушают какие-то фундаментальные этические ценности. Да, наша жизнь — это постоянный экзистенциальный выбор и постоянная вина. Только в благостных сказках бывает так, что человек не несет вины за свое решение. Этого не бывает, это абсолютная иллюзия, - продолжает Матвейчев, - Люди на высоких должностях, которые принимают решение о жизни и смерти роты, батальона, дивизии, тем более находятся в такой постоянной жизненной ситуации. И спекулировать в данный момент на этом вопросе нельзя. Человек принимает какие-то решения, потому что он несет ответственность по долгу службы. А тут прибегает какой-то человек со стороны, который ответственности не несет, и начинает пальцами тыкать: мол, какое он принял это решение».
Депутат-политтехнолог считает, что во избежание подобного надо вводить официальную военную цензуру: «Это подло, просто подло — в этот момент так себя вести и говорить, что принятые решения с выбором определенных ценностей и качеств в определенной обстановке не является всеблагими. Нет такого решения, у которого нет недостатков, потому что по определению такого решения не бывает.
Конечно, нужно общество оградить от подобного рода высказываний. Должна быть, с одной стороны, законодательная цензура, цензура военного времени. Я думаю, что если бы у нас была не спецоперация, а именно война, то правила подобной цензуры действовали бы жестче.
Но, с другой стороны, есть интернет, где трудно эту цензуру осуществлять, — и здесь должна быть самоцензура. Мы должны сами понимать, что мы творим. И когда опрометчиво, действуя на эмоциях, отдельные граждане, блогеры, иногда высокопоставленные лица высказывают какие-то мнения, то остальное общество должно их как-то оградить, не поддаваться эмоциям, перестать это обсуждать и репостить, не делать хайпа вокруг этого.
Новая очередная истерика показала, что предыдущая харьковская нас ничему не научила. Понимаю, что это все поддерживается в том числе искусственно: у меня есть четкие сведения непосредственно с обратной стороны, своего рода лазутчики, которые рассказывают, какие методички блуждают в Киеве. Они работают на очень четкую идею — патриоты против власти, — на патриотический майдан. «Все вокруг предатели, нам нужно убрать всех предателей и негодяев на верхушке власти».
Политолог, руководитель департамента региональных исследований Фонда развития гражданского общества Виталий Иванов также не считает нынешнюю дискуссию полезной, «как любые публичные дискуссии во время боевых действий».
«Неполезно либо прямо вредно все, что ставит под сомнение авторитет и компетентность политического руководства и командования. Вместе с тем нельзя не признать, что есть широкий запрос на наказание виновников армейских неудач», - считает Иванов.
Оппозиционный политолог Аббас Галлямов считает, что Кадыров и Пригожин пытаются дистанцироваться от военного командования, как бы говоря «Это не мы проигрываем, это - они».
«Преследуя свои собственные интересы, они бьют по политическим позициям режима. Возрастает степень хаотичности и ощущение развала системы, то есть, ровно то, что предшествует революции и парализует бюрократию», - мрачно пророчит Галлямов.
Политтехнолог Игорь Минтусов, напротив, считает, что жесткая цензура чревата потерей доверия населения: «Есть две крайности, которые заключаются в том, чтобы жителям конкретной страны, которая ведет военные действия, сообщать только хорошие новости: победы своих вооруженных сил, и не сообщать плохие новости. Это информационная открытость в той части, где рассказывается об успехах своих вооруженных сил, и информационная закрытость, связанная с неуспехами вооруженных сил своей страны — две такие крайности в зависимости от того, какие цели перед собой ставят военная пропаганда либо военная журналистика.
Разные критерии есть у журналистики — в первом случае это журналистика мирного времени, и во втором случае журналистика во время, когда воюет их страна. Здесь такой общий бесхитростный ответ на бесхитростный вопрос. В итоге информационная открытость нужна, потому что если некоторые непрофессионалы в области коммуникации считают, что нужно сообщать только хорошие новости, а плохие не надо, это приведет к тому, что граждане страны (так как плохие новости будут доходить активно по другим каналам) в итоге придут к выводу, что официальная пропаганда недоговаривает, и уровень доверия к официальным СМИ будет падать».
«С другой стороны, есть группа людей, психологию которых очень хорошо описал Александр Сергеевич Пушкин: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» Очень часто у жителей страны есть ожидания хороших новостей, которые стимулируют журналистов, описывающих реальные военные действия, давать только хорошие новости.
Это сложная тема, но в итоге, даже когда идут плохие новости с полей сражения, то открытая информационная политика позволяет гражданам стать соучастниками этого процесса. В процессе военных действий бывают успехи, бывают неудачи, и когда о неудачах сообщают жителям страны, это тоже имеет в итоге большие стратегические плюсы, а именно: население сплачивается вокруг вооруженных сил, которые терпят временную неудачу, сопереживает, готово помогать, и так далее. Тогда население не воспринимает, что вооруженные силы, которые действуют на другой территории, пришли туда на парад победы и маршируют, не встречая препятствий.
Информационная открытость, с моей точки зрения, нужна — в ней существенно больше плюсов, чем минусов», - заключает Минтусов.
Поэт и публицист Игорь Караулов также считает информационную открытость в нынешнее время неизбежной, потому что закрытость просто невозможно организовать.
«Какой может быть вред от этой информационной открытости? Это наверное, действительно никак не помогает армии воевать, потому что армия не находится в изолированном состоянии. Если кто-то думает, что там на фронте люди воюют и не читают телеграм-каналы, это не так. Читают, имеют свое мнение. Я в этом мог убедиться в своей последней поездке с агитбригадой по воинским частям.
Если тут будут врать, то армия это тоже заметит, что за ее спиной врут. Армия заметит, что за ее спиной молчат. Если будут говорить о проблемах армии, то, конечно, это не помогает воевать само по себе, если все останется на уровне разговоров. Но если что-то будет меняться, если сигналы общества будут распознаваться, правильно учитываться, и на их основе будут делаться какие-то быстрые и точные практические выводы, то, конечно, это поможет армии воевать», - рассуждает Караулов.
Ряд экспертов предлагает относиться к дискуссии, которая уже случилась в публичном поле, как к факту, который показывает, что происходит с системой в целом.
Руководитель Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что статья за дискредитацию и фейки вряд ли грозит Кадырову и Пригожину.
«В целом очевидно, что речь идет о кризисе как в самой системе управления спецоперацией, так и в ее информационном освещении. Так или иначе это надо пересобирать. Видимо, необходимость этого не является очевидной для всех участников процесса и Пригожин и Кадыров пытаются использовать для этого публичные инструменты. Думаю, после того, что произошло с деловыми СМИ, практически единственным каналом содержательного обсуждения любых вопросов, в том числе, таких острых, остался Телеграм», - говорит Минченко.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что военные неудачи в любой стране в любую эпоху снижают управляемость, и открытость - результат естественного снижения управляемости и наличия большого объема невысказанного у каждого жителя страны, в том числе у представителей истеблишмента.
Президент фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков называет «коллапсом системы» ситуацию, когда институционализированные военные, то есть, люди имеющие право не только применять оружие, но и принимать военные решения, оказываются под критикой формирований типа нацбатальонов или ЧВК, которые находятся в «серой» правовой зоне.
«Какой гражданский контроль может быть над военными или над Минобороны? Когда депутаты выступают и предлагают ввести в военкоматах контроль, это понятно, но как это сделать на фронте? Это даже не дискуссия между «рассерженными патриотами» - я бы даже назвал их «озлобленными», а попытка если не то чтобы перехвата рычагов власти, то попытка перехвата влияния на повестку, то есть те кто более вольготно себя чувствует, оперируя в серых зонах, чувствует, что Россия эффективнее всего справляется в них, то есть, это эффективные менеджеры новой эпохи. Военные говорят: «У нас бюджет, у нас на согласовании», а менеджеры «серой зоны» могут заплатить наличными и быстро, чтобы достать необходимое. Это спор я бы даже сказал между государством и системой. Политолог Глеб Павловский говорит: «Государство не равно системе», система выросла из экзистенциального кризиса и сейчас сохраняет сама себя, ее апологетами становятся новые персонажи. Мне кажется, что это – наметившийся конфликт внутри системы с государством», - считает Гращенков.
Екатерина Винокурова специально для PublicO.